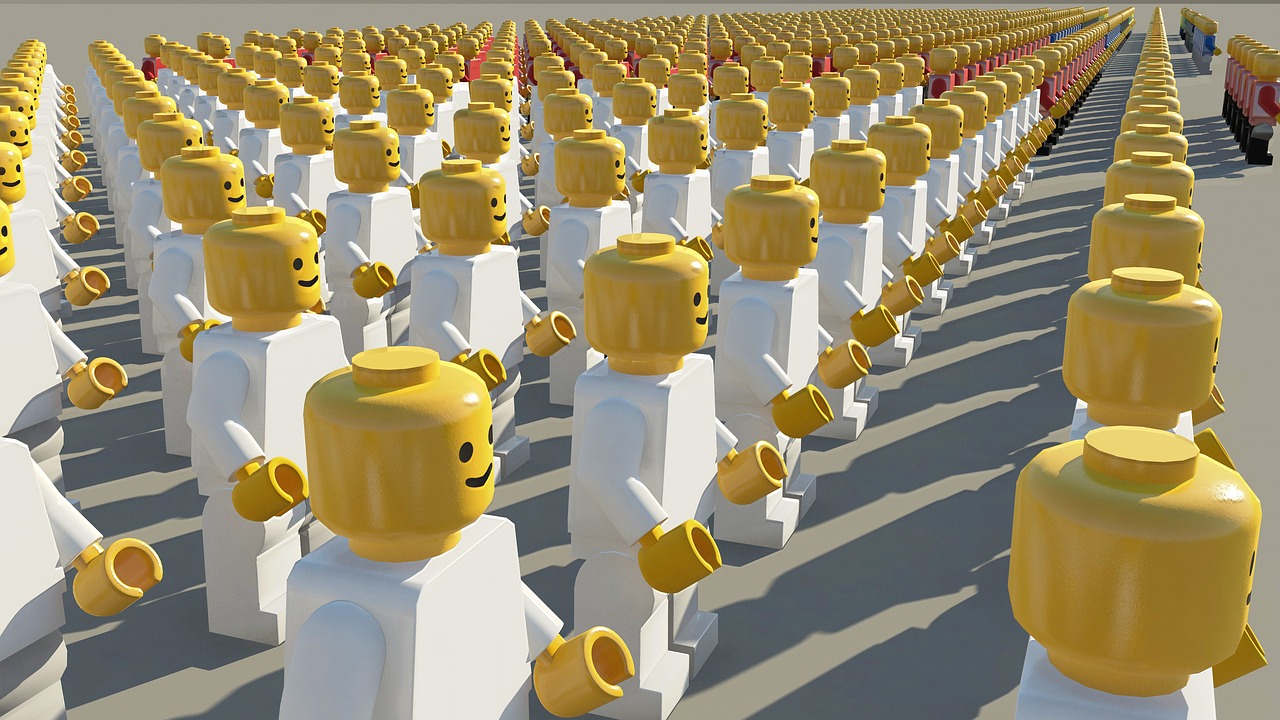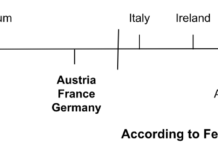Предположим, что во время войны, действительно, выживают примитивные.
Но мне представляется, что это недостаточно адекватное видение.
Мне кажется, что ключ к понимаю этого находится в этом «выживают».
Потому что, если посмотреть экзистенциальный смысл выражения, то окажется, что экзистенция действительно примитивизируется. Происходят разрушения, массовые жертвы, смерти вокруг. Разрушаются не только обычные связи, но и душевность. Она огрубляется. Все разделяется на свой-чужой, враг-друг.
И в этом проявлении возникает следующий вопрос: а что допустимо еще?
Если говорить не про материальный план, на котором базируется экзистенция, а про план духовный, то оказывается, что там речь не идет о выживании. Там идет речь о совершенствовании, преобразовании, преображении. И этим духовным интенциям война никак не помеха.
Если нет электричества, если нет проявлений нашего довоенного достатка, если отключен даже интернет, — вот она, оказывается, самая простая ситуация духовного совершенствования. И в этом смысле речь не идет о выживании, а речь идет о душевной, о духовной работе. И это точно не выживание.
Что же еще есть во время войны?
На фоне примитивизации проявляется «иное» как простое.
И оказывается, что эти, которые лишены материальных сложностей, материального мира, примитивизированные, упрощенные, легче всего воспринимают «иное», которое проявляется как простое. И оно им оказывается созвучным.
Поэтому, в конечном результате, в представлении о том, что выживает примитивное, оказывается, что выживает разное. Примитивное оказывается просто более заметно.
А то, что не замечалось до этого, замечается как-то иначе. И мы начинаем налаживать иные патические отношения, простраивать их с другими.
Мы начинаем иначе после войны строить свой материальный мир и преобразовывать свою экзистенцию. И потом, оказывается, что откуда-то берется то, чего до войны не было.
Возникает вопрос: откуда оно берется, если война обеспечила только то, чтобы выжило лишь примитивное?
Значит, вместе с выживанием примитивного проявляется нечто такое, что в своем существе примитивным не было.
То, что появилось, и было замечено во время войны как потенциально сложное. То есть то, что наследуется после войны усилиями преображений и преобразований.
Мне представляется, что война проявляет это «иное».
И в этом смысле, принятие и не принятие войны коренится в принятии и не принятии самого возникновения «иного».
Нам почему-то хочется, чтобы «иное» или изменение возникало в любви и согласии. К сожалению, так не бывает.
Там, где есть активность преобразования, — она всегда энергична, она всегда связана со столкновениями и конфликтами.
И если мы настроены на гармонию, иное может не проявиться. В гармонии нет иного. В гармонии иное усматривается вне гармонии.
Если мы ориентированы на дружественность, договор, совместность, иное может не случиться.
Мне представляется весьма важным, куда мы помещаем свое усмотрение.
Ведь дело не в войне самой по себе, а дело в том, принимаем мы войну или нет, участвуем или не участвуем.
И оказывается, что участие в войне — это не только материальное участие, не только выживание. Это в первую очередь участие духовное. Участие преображающее, мыслительное, патическое, волевое. И оно никак не социально.
В этом смысле даже участие в войне может быть на какой-то из социальных сторон войны.
Может оказаться, что процесс войны, который в социальности выглядит как уничтожение части материального мира и части общества, в каких-то духовных планах выглядит совершенно иначе, как проявление «иного», которое без этого столкновения незаметно.
И это иное видение войны, не присуще нам, когда мы не пытаемся оказываться на пределе.
Тогда может быть нужно переосмыслить войну как проявление иного, с чем не согласно большинство.
И большинство за это несогласие платит разрушением своей социальности.
Но оно платит лишь потому, что позволило этой социальности стать главной в своей жизни.