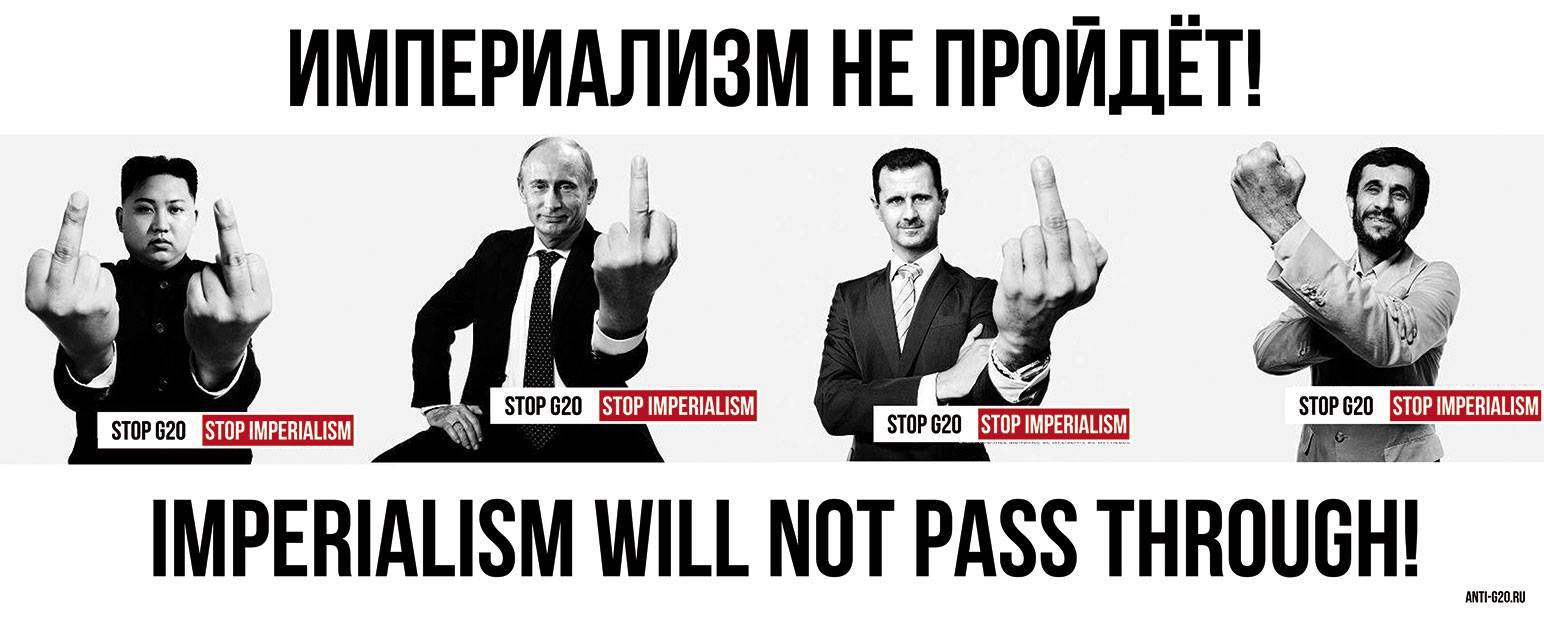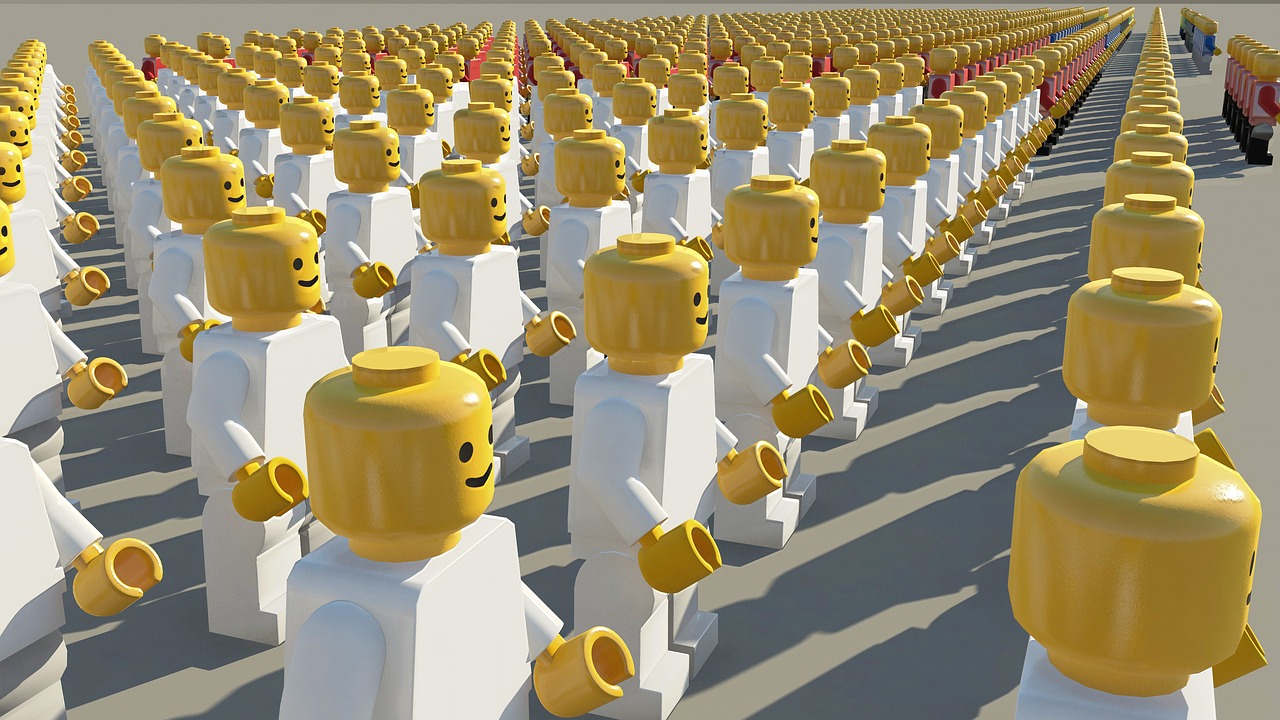Притворная нейтральность, основанная на моделях, является ключевым компонентом неолиберализма, который привел к огромному росту числа экономистов на государственной службе — Рузвельт использовал 5 000 экономистов, а Рейган опирался на 16 000 из них. По мере того как жаргон и методы экономики вытесняли язык политики, у этой идеологии, которая утверждала, что ее нет, появилось название: экономизм.
Основной метод экономизма заключается в сведении человеческого взаимодействия к «стимулам», исключая мораль и этику — вспомните настойчивое утверждение Маргарет Тэтчер о том, что «общества не существует». Экономизм сводит своих подопечных к homo economicus, «рациональному», «максимизирующему полезность» автомату, роботизированно реагирующему на поступающую «абсолютно точную информацию» о рынке.
Экономизм также настаивает на том, что власти нет места в предсказаниях того, как будет развиваться политика. Именно так экономисты Чикагской школы смогли восхвалять монополии как «эффективные» системы, максимизирующие «благосостояние потребителей» за счет снижения цен без «затратной конкуренции».
Претензия на математическое совершенство посредством монополии игнорирует проблему, которую пытаются решить антимонопольные законы, а именно развращающее влияние монополистов, которые контролируют рынки и законодательные органы. Сенатор Джон Шерман, выступая за принятие закона Шермана, сказал: «Если мы не можем терпеть короля как политическую силу, мы не должны терпеть короля над производством, транспортировкой и продажей предметов первой необходимости».
Экономизм говорит, что мы можем позволить монополиям сформироваться и использовать их только во благо, применяя против них принудительные меры, когда они злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке, повышая цены. Но как только монополия сформировалась, уже слишком поздно принимать против нее меры, потому что монополии слишком велики, чтобы потерпеть неудачу, и слишком велики, чтобы попасть в тюрьму.
Сегодня экономизм бессилен что-либо сделать с инфляцией, потому что он идеологически неспособен признать, что инфляция на самом деле является результатом политики, в которой монополисты обвиняют пандемические потрясения, военную агрессию России и якобы слишком щедрые программы помощи гражданам, а не их собственное стремление к наживе.
Эта претензия на математическое совершенство монополий игнорирует проблему, которую пытаются решить антимонопольные законы, а именно развращающее влияние монополистов, которые контролируют рынки и законодательные органы. Сенатор Джон Шерман, выступая за принятие закона Шермана, знаменито сказал: «Если мы не можем терпеть короля как политическую силу, мы не должны терпеть короля над производством, транспортировкой и продажей предметов первой необходимости».
https://marker.medium.com/we-should-not-endure-a-king-dfef34628153
Математика оперирует дискретными величинами, такими как цены, в то время как сила — это качество, которое нелегко вписать в уравнение. Но это не значит, что мы можем спокойно отбросить власть ради удобства аккуратной модели. Игнорировать качественные показатели и заниматься арифметикой с сомнительными количественными остатками — это не способ понять мир, а тем более управлять им:
https://locusmag.com/2021/05/cory-doctorow-qualia/
Экономизм, как известно, оторван от реального мира. Как заметил Эли Девонс, «если бы экономисты хотели изучать лошадь, они бы не пошли смотреть на лошадей. Они бы сидели в своих кабинетах и спрашивали себя: «Что бы я делал, если бы был лошадью?».
Эта оторванность от реальности — не просто результат зацикленных на фантазиях академиков, которые не хотят пачкать руки, выходя в реальный мир. Спросите себя: «Что бы я делал, если бы был лошадью?» (или любой другой вещью, которой экономисты обычно не являются, например, «бедняком», «молодой матерью» или «беженцем») позволяет вам эмпирически отмыть свои предубеждения. Ваши предрассудки можно незаметно оправдать, если вы сначала представите их в виде уравнения, детали которого могут быть понятны только вашим единоверцам.
Стиглиц дает общую критику предположений неоклассических моделей, начиная с гипотезы «эффективного рынка«, согласно которой рынок и так эффективно использует все наши национальные ресурсы, поэтому любые государственные расходы «вытеснят» эффективную деятельность частного сектора и сделают нас всех беднее.
Есть тривиально очевидные примеры, которые показывают, что это не соответствует действительности: каждый безработный, который хочет найти работу, не используется рынком. Правительство может вмешаться — скажем, с помощью федеральной гарантии занятости — и трудоустроить всех, кто хочет получить работу, но не получает ее от государственного сектора, и это по определению не вытеснит деятельность частного сектора.
Менее очевидно, но все же верно, что частный сектор погряз в неэффективности. Идея о том, что Google и Facebook «эффективно» используют капитал, когда сжигают миллиарды долларов, чтобы усилить слежку, абсурдна сама по себе. А еще есть миллиарды, которые Facebook сжег, чтобы построить жуткий мертвый торговый центр, который он называет «метавселенной».
Затем мы приходим к некоторой предвзятости самих моделей, которые постоянно недооценивают долгосрочные выгоды от расходов на инфраструктуру. Государственные инвестиции такого рода «приносят очень высокую прибыль», что означает, что даже если проект государственного сектора сокращает инвестиции частного сектора, оставшиеся частные инвестиции приносят более высокую прибыль благодаря государственным инвестициям в квалифицированную рабочую силу и эффективные порты, дороги и поезда.
Пользователи моделей часто говорят о том, что мы должны пойти на «большой компромисс»: мы можем либо уменьшить неравенство, либо увеличить благосостояние, но не то и другое одновременно, потому что уменьшение неравенства означает отъем ресурсов у лидеров бизнеса, которые в противном случае создали бы корпорации, чья продукция сделала бы всех нас лучше.
Несмотря на то, что организации от ОЭСР до МВФ признали, что неравенство само по себе является тормозом экономического роста, способствуя разрушительному «поиску ренты» (сегодня это можно наблюдать в Интернете в форме эншифтинга), наиболее распространенные макроэкономические модели продолжают предполагать, что неравное общество будет столь же эффективным, как и плюралистическое. Действительно, создатели моделей рассматривают внимание к неравенству как ошибку, граничащую со смертным грехом — заботы о «результатах распределения» (то есть о том, кому какой кусок пирога достанется), а не о «росте» (становится ли пирог больше).
Стиглиц говорит, что в последние годы разработчики моделей стали немного лучше, официально отказавшись от идеи Герберта Гувера об экспансионистской экономии, которая заключается в том, что мы должны сокращать государственные расходы, когда экономика сокращается. Здравый смысл подсказывает нам, что это приведет к ускоренному сокращению, но экспансионистская экономия (ошибочно) предсказывает, что правительства, сокращающие расходы, повысят «доверие инвесторов» и вызовут рост частных инвестиций.
Это упование на то, что Пол Кругман называет «феей доверия», трагически неуместно. Сокращения Гувера усугубили Великую депрессию. Так же как и сокращения МВФ в «Восточной Азии, Греции, Испании, Португалии и Ирландии».
Экспансионистская экономия — это политика, выдаваемая за экономику. Действительно, политическая идеология, заложенная в наши базовые модели, стала причиной того, что правительства не смогли предвидеть кризис за кризисом, включая Великий финансовый кризис 2008 года.
Одно из основных политических предположений в моделях экономизма заключается в том, что правительство не должно использовать власть для достижения результатов — скорее, оно должно «подталкивать» рынки с помощью стимулов (которые, как нам постоянно напоминают, «имеют значение»). Это означает, что мы не можем запретить загрязнение окружающей среды — мы можем только предложить системы «ограничения и торговли», чтобы стимулировать компании меньше загрязнять окружающую среду.