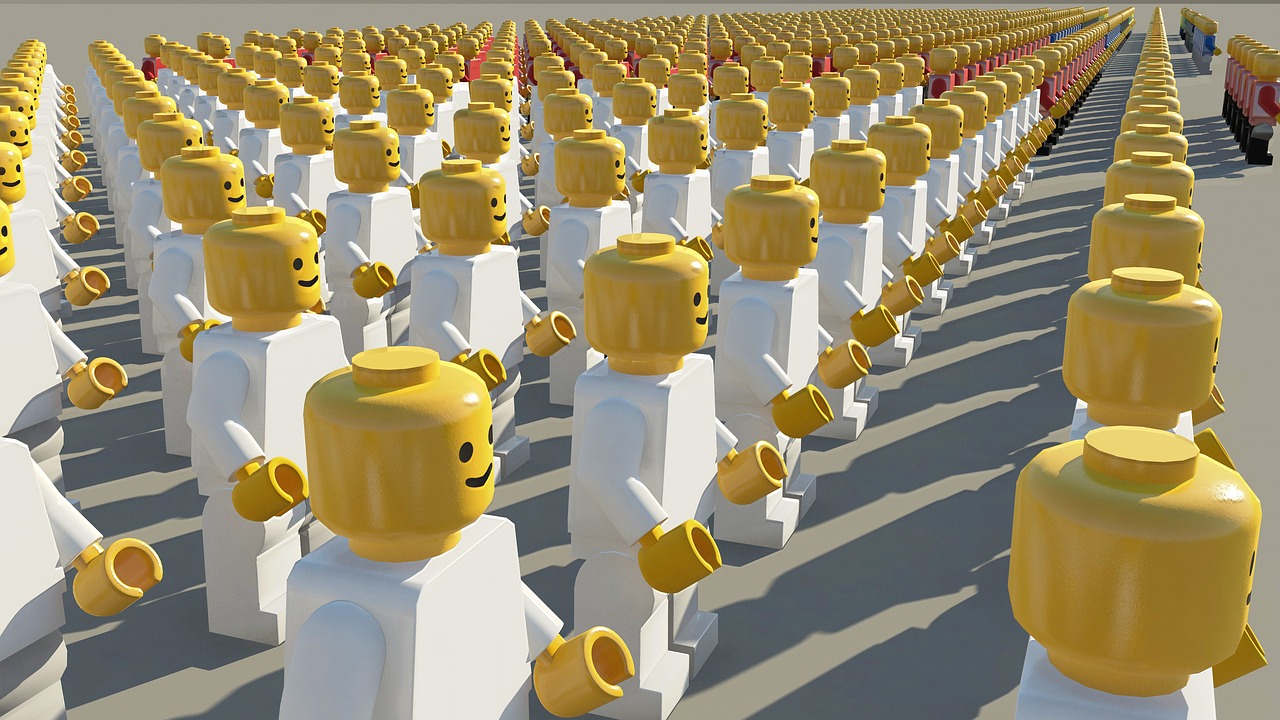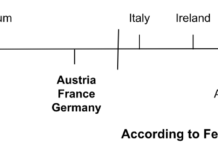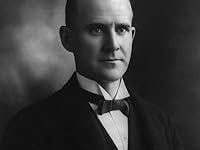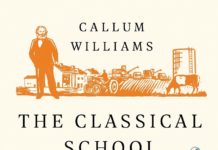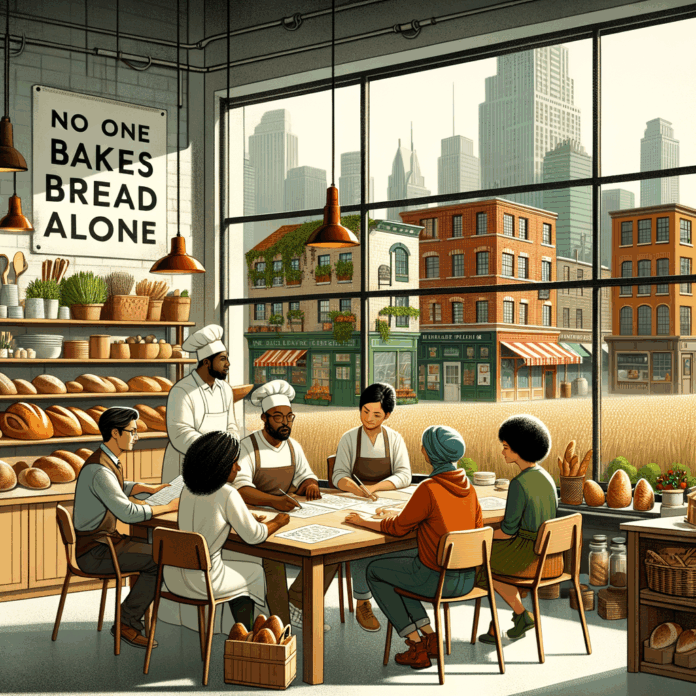
Это не реклама хлеба! А если серьёзно, хоть я и люблю хлеб, и давно увлекаюсь выпечкой закваски, это не главное. В предыдущей статье «Никто не печёт хлеб в одиночку» я использовал скромный хлеб как метафору взаимозависимости в нашей жизни — труде, питании, экономике. Один читатель задал острый и уместный вопрос: если никто не печёт хлеб в одиночку, то кто решает, сколько хлеба печь? Его ответ — рынок.
Это честный вопрос и классическая защита рынков как децентрализованных механизмов обработки информации. Цены, как он пишет, отражают изменения спроса и предложения, вознаграждают эффективных производителей и координируют сложные предпочтения — от закваски до булочек с кунжутом — без единого плана. Этот децентрализованный механизм, уверен читатель, не только эффективен — он справедлив. Прибыль означает, что ты создал ценность. Убытки говорят о неэффективности. А подобная логика, масштабируемая на всю экономику, и есть источник процветания.
Это убедительная история. Но она умалчивает о том, чего рынки не видят — и кого они забывают.
Цена ≠ справедливость
Давайте начнём с того самого главного рыночного механизма — ценового сигнала. Да, цена, безусловно, несёт информацию. Но какую и для кого?
В рыночной экономике цены отражают то, сколько люди готовы и могут заплатить. Но готовность и способность — не одно и то же, что потребность. Частная кондитерская, продающая кроассаны по 6 долларов, может быть гораздо «прибыльнее», чем общинная кухня, выпекающая питательный хлеб для тех, кто живёт впроголодь. Но это не значит, что первая — более ценна. Это лишь значит, что она ориентирована на тех, у кого есть лишние деньги.
Иными словами, цены не раскрывают неудовлетворенных нужд — они отражают только платежеспособность. А когда речь идёт о базовых благах — еде, жилье, заботе, энергии — это не просто изъян, а моральная и структурная проблема.
Прибыль ≠ ценность
Приведу пример с едой на вынос, который предложил мой оппонент: если продавец уходит в минус, рынок говорит — остановись или измени что-то. Но сама по себе прибыль ничего не говорит о пользе еды — была ли она полезна, экологична, по карману ли людям. Ничего не говорит о том, может ли мелкий предприниматель конкурировать с крупной сетью, за которой — субсидии, дешёвая рабочая сила, масштаб. Она уж точно ничего не говорит о социальном и экологическом влиянии одного вида бизнеса по сравнению с другим.
Та же проблема характерна и в большом масштабе. Например, частный рынок не решил проблему с доступным жильём — он её усугубил. Роскошных апартаментов хватило бы, чтобы расселить всех богатых, и ещё бы осталось. Но миллионы вынуждены спать в палатках или тесных комнатах. Почему? Потому что тем, кому жильё нужнее всего, зачастую просто нечем платить столько, чтобы это стало выгодно для девелопера.
Если бы прибыль действительно выражала ценность для общества, эта ситуация была бы невозможна. Но она повторяется снова и снова, потому что рынки вознаграждают рентабельность, а не нравственность.
Рынки не нейтральны
Ещё один миф, который стоит развеять, — идея, будто рынок нейтрален, что он отделён от политики и власти. На деле рынки пронизаны системами собственности, юридических привилегий и исторических неравенств. Их работу формируют субсидии, патенты, монополии, рекламные бюджеты, лоббизм и наследие дискриминации. Даже само понятие «рынка» — результат конкретных политических решений.
Мы живём не в какой-то идеализированной свободнорыночной утопии, а при капитализме. И аргумент «ринок = справедливость» — не работает. Рынок — это индикатор не справедливости, а преимуществ.
Если мы полагаемся лишь на рынок, мы не устраняем планирование — мы просто отдаём власть корпорациям и капиталу, чтобы они планировали за нас, исходя из максимизации прибыли. А люди, которых эти решения касаются больше всего — жильцы, работники, родители, соседи — почти не имеют голоса.
Демократическое планирование ≠ командно-административное
Часто критикуют альтернаты рынку, ссылаясь на провалы Советского Союза. Но СССР рухнул не только из-за того, что ему не хватало ценовых сигналов, а потому что он объединил авторитаризм с жёсткой централизацией. Проблема не в самом планировании, а в недемократичности этого планирования.
Для сравнения — рост Китая сочетал рыночные механизмы и масштабное государственное планирование: инфраструктурные проекты, индустриальную политику, стратегическое распределение ресурсов. Да, этот путь дал рост, но также породил неравенство, экологические катастрофы и репрессии. Хотя нужно признать, что именно Китай куда успешнее других стран встречает современные вызовы; есть и серьёзные исследования, согласно которым поддержка населения нынешней политике Китая растёт. И нельзя забывать о социалистическом прошлом: в отличие от оценок Всемирного банка, исследователь Хикель и его команда установили, что в 1981–1990 годах — накануне либерализации — уровень крайней нищеты в Китае был одним из самых низких в развивающемся мире: в среднем лишь 5,6%, против 51% в Индии, 36,5% в Индонезии и 29,5% в Бразилии.
Задача — не заменить рынки огромной ведомственной таблицей, а ввести демократию туда, где сейчас её нет. По крайней мере, морально оправданной демократии там точно нет — власть держится на эксплуатации Глобального Юга. Но это тема для другой статьи.
Представьте себе демократические продовольственные системы, где общества решают, как использовать земли; где муниципальные пекарни соседствуют с кооперативами; где государственные зернохранилища защищают от потрясений; и где никто не остаётся голодным только потому, что это кому-то не выгодно.
Представьте себе демократические жилищные системы, где город строит исходя из потребностей, а не ожиданий спекулянтов; где жильцы имеют слово, а общественная земля служит общему благу. Представьте энергетику и транспорт, создаваемые не для роста прибыли, а ради декарбонизации, доступности и устойчивости.
Вот такое планирование — не централизованное, а демократическое. К его разным образам применяют термины «климатический социализм», «эко-демократический социализм»… Суть не в ярлыках. Лучше всех объясняет это Джейсон Хикель — его работы открыты для всех на Substack.
Обратная связь — по-другому
Мой собеседник говорит: пусть рынок решает, что печь, какое жильё строить, как жить. Я отвечаю: мы способны на большее.
Да, нам нужны механизмы обратной связи. Но мы не обязаны сводить всю ценность к деньгам. Есть справедливое бюджетирование, гражданские собрания, муниципальные комиссии, кооперативные предприятия, общественные платформы — всё это позволяет людям, не только покупателям, влиять на экономику. Мы можем инвестировать в общественные блага не потому, что они прибыльны, а потому что они нужны.
Стоит доверять людям — конечно! Но не только как покупателям на базаре. Как работникам, соседям, родителям и гражданам. Доверять им принимать решения, заботиться, обсуждать, строить, мечтать. Вот фундамент справедливой экономики.
Потому что хлеб действительно не печётся в одиночку. И никто не должен оставаться голодным в мире, где хлеба хватит для всех.