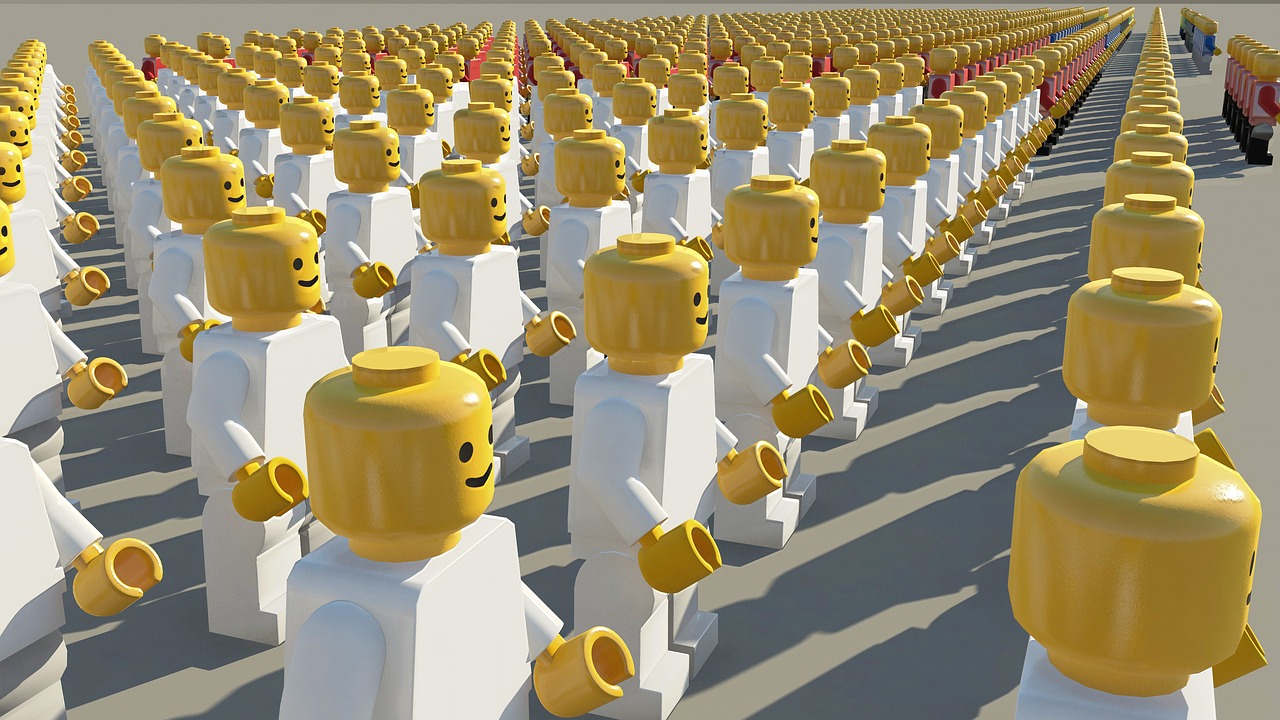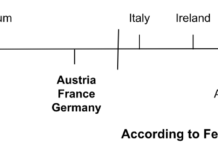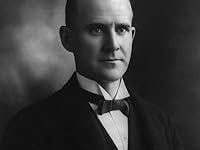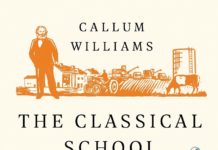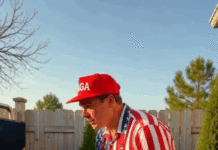Уважаемый мною автор в энергетической отрасли в очередной раз опубликовал текст, требующий всестороннего опровержения: он утверждает, что современное высокопродуктивное механизированное сельское хозяйство является временным явлением, зависящим от доступности ископаемого топлива, и не может продолжаться в будущем.
По его мнению, после истощения запасов ископаемого топлива произойдет неизбежный возврат к ручному труду и использованию тягловых животных, что приведет к значительному снижению урожайности. Как следствие, минимальная площадь земли, необходимая для обеспечения продовольствием одного человека, резко возрастет в ближайшие десятилетия. Автор представляет этот процесс как линейную и неизбежную деградацию сельскохозяйственного производства, не учитывая альтернативные пути развития или сложную структуру современной продовольственной системы.
Цитата:
Сегодня, на вершине технологической цивилизации, урожайность сельскохозяйственных культур вдвое превышает показатели до 1960-х годов. «Зеленая революция», с ее щедрым использованием гербицидов, пестицидов и удобрений, не только способствовала небывалому росту сельскохозяйственного производства, но и аналогичному росту населения, который, совпав с пиком доступных сельскохозяйственных земель во всем мире, также начал спадать.
Механизированное сельское хозяйство не только заменило пахотными землями многие, ранее недоступные природные среды обитания, но и опустошило землю и море. Цветение водорослей и мертвые зоны в близлежащих водах и морях, вызванные дождевыми стоками, апокалипсис насекомых и птиц (кому-нибудь вспоминается «Безмолвная весна»?), истощение почвы и питательных веществ растений – все это признаки неустойчивой практики. Прошлые шесть десятилетий великолепных урожаев — лишь временный всплеск, достигнутым за счет будущих поколений.
Механизированное, высокоурожайное сельское хозяйство – это не то, что нужно воспринимать как должное на протяжении грядущих столетий.
Поскольку ископаемое топливо будет гораздо труднее достать (не говоря уже о том, чтобы позволить себе) в мире после коллапса, мы можем ожидать возвращения к более ручному труду и использованию тягловых животных во многих случаях. Без ископаемого топлива, гербицидов и пестицидов, не говоря уже о генетически модифицированных культурах с искусственно повышенной продуктивностью, нас ожидает возвращение к гораздо более низкой урожайности, даже при использовании регенеративного сельского хозяйства. (Помните, у вас не будет такого количества тракторов и комбайнов в мире после коллапса, поэтому многим придется выращивать свою пищу тяжелым трудом собственных рук, а это означает больше потребляемых калорий и еще больше необходимой пищи.) В целом, минимальная площадь для выращивания пищи на человека резко возрастет в ближайшие десятилетия.
К сожалению в тексте автора множество упрощений, ложных суждений которые в конечном итоге приводят к неправильным выводам. Линейные данные приводятся вне контекста структуры современного сельского хозяйства, продукция которого только частично используется для выращивание еды. Так бывает, когда пытаются подогнать аргументацию под привычные нарративы. Не впервый раз приходится опровергать автора и писать расширенный аргументированный ответ…
Исходный текст строится на фундаментальном заблуждении: представлении о прямой линейной связи между размером обрабатываемых земель и производством продовольствия. Подобное упрощение игнорирует комплексность современных агропродовольственных систем и ведет к искаженным прогнозам, рисующим неизбежный регресс к примитивному сельскому хозяйству. Давайте рассмотрим реальность, которая значительно богаче и многограннее.
Современное промышленное сельское хозяйство, несмотря на его технологическую оснащенность, демонстрирует удивительную неэффективность по целому ряду параметров. В то время как корпоративные агрохолдинги контролируют подавляющее большинство сельскохозяйственных угодий, именно малые фермерские хозяйства показывают превосходящую производительность на единицу площади. Этот феномен, известный специалистам как «парадокс размера фермы», наблюдается во всех регионах мира: небольшие фермы (до 2 гектаров) занимают лишь 12% сельскохозяйственных земель, но при этом производят более трети мирового продовольствия. В странах Глобального Юга этот показатель еще выше – фермы размером менее 5 гектаров обеспечивают около 80% всего продовольствия.
Почему же возникает такой парадокс? Малые фермерские хозяйства, как правило, используют диверсифицированные системы производства, выращивая от 4 до 10 различных культур на одном участке, что создает естественные синергии между растениями. В противоположность этому, промышленные монокультурные хозяйства специализируются на 1-2 культурах, что требует масштабного применения внешних ресурсов – удобрений, пестицидов, механизации – для поддержания продуктивности. Более тщательный уход и применение локальных знаний позволяет мелким фермерам достигать продуктивности на 20-60% выше, чем на крупных предприятиях, при значительно меньшем использовании воды, удобрений и энергии.
Усугубляет ситуацию и поразительная неэффективность современных продовольственных цепочек. Представьте себе: из каждого доллара, который мы тратим в супермаркете, лишь 15 центов достается фермерам, непосредственно производящим продукты. Остальное распределяется между переработчиками, транспортными компаниями и ритейлерами. Эта структура не только ущемляет производителей, но и ведет к значительным потерям продовольствия. Ежегодно до 40% всего произведенного продовольствия – около 1,3 миллиарда тонн – теряется или выбрасывается на различных этапах от поля до тарелки. Суммарная стоимость этих потерь оценивается в триллион долларов, что сопоставимо с ВВП средней европейской страны. При этом в развивающихся странах потери преимущественно происходят на этапах от производства до розничной торговли из-за несовершенной инфраструктуры, тогда как в богатых странах основные потери происходят уже на уровне потребителя.
Значительный потенциал для устойчивого производства демонстрируют альтернативные методы земледелия. Многочисленные исследования показывают, что органическое земледелие на 63% более энергоэффективно при сопоставимой урожайности. За периоды в 5-10 лет органические системы показывают более стабильную урожайность, особенно в условиях климатических экстремумов – засух или наводнений. Это объясняется более здоровой структурой почвы, способной удерживать влагу и противостоять эрозии. Агроэкологические методы способствуют накоплению органического вещества в почве со скоростью от 500 до 2000 кг углерода на гектар в год, что не только повышает плодородие, но и вносит вклад в смягчение климатических изменений, связывая атмосферный углерод.
Практические примеры новых подходов впечатляют. Системы интенсивного рисоводства в Азии показали увеличение урожайности на 20-50% при сокращении использования воды на 30-50% и семян на 80-90%. Пермакультурные системы в различных климатических зонах демонстрируют продуктивность в 2-5 раз выше конвенциональных систем на единицу площади. Эти достижения опровергают миф о неизбежном снижении продуктивности при отказе от промышленных методов.
Один из ключевых аспектов, который полностью игнорируется в исходном тексте, – это структура использования сельскохозяйственных земель. Около 83% всех сельскохозяйственных угодий используется для животноводства – это пастбища и земли для выращивания кормов. При этом продукция животноводства обеспечивает лишь 18% мировых калорий и 37% белка. Такая непропорциональность объясняется значительными потерями при конверсии растительного белка в животный. Для производства одного килограмма говядины требуется от 7 до 10 килограммов зерна, для свинины – 4-5 кг, для птицы – 2-3 кг. Эти цифры наглядно иллюстрируют биологическую неэффективность животноводства как источника пищи.
Что произойдет, если человечество начнет постепенно сокращать потребление мяса? Даже умеренное снижение мирового потребления мяса на 50% потенциально могло бы высвободить около 20% мировых пахотных земель, сейчас используемых для выращивания кормов. Это эквивалентно примерно 370-400 миллионам гектаров – территории, превышающей площадь Индии. Перенаправление этих земель на производство продовольствия для людей могло бы увеличить доступность калорий на 70-100%, в зависимости от выбранных культур. При выращивании высокобелковых культур, таких как бобовые или киноа, на этих площадях можно было бы обеспечить питанием дополнительно 3-4 миллиарда человек.
Важно отметить, что не все земли, используемые под пастбища, пригодны для растениеводства. Многие пастбищные угодья расположены на маргинальных землях – склонах, засушливых или переувлажненных территориях, где невозможно выращивать урожай. Именно поэтому переход к более устойчивым моделям пастбищного животноводства на таких землях, с фокусом на локальные породы и традиционные методы выпаса, позволил бы сохранить животноводство как важный компонент продовольственной системы, но значительно снизить его экологическую нагрузку.
Трансформация агропродовольственных систем имеет и важное социальное измерение. Малые фермы обеспечивают занятость 2,5 миллиардам людей во всем мире, предоставляя не только продовольствие, но и источник дохода для сельских сообществ. Локализация продовольственных систем способствует большей устойчивости и автономии этих сообществ, снижая их зависимость от глобальных рынков и волатильности цен. Диверсифицированные системы производства обеспечивают более разнообразное питание местного населения, что напрямую коррелирует с улучшением показателей здоровья.
Будущее продовольственных систем, вопреки мрачным прогнозам исходного текста, не обречено на регресс к примитивным методам с низкой продуктивностью. Напротив, интеграция традиционных знаний с современными научными подходами в рамках агроэкологических систем способна обеспечить высокую продуктивность при значительно меньшем негативном воздействии на окружающую среду и более справедливом распределении ресурсов и выгод.
Структурные изменения в виде перехода от монокультурных систем к диверсифицированному производству, оптимизация рациона питания, сокращение потерь в цепочках поставок, внедрение водосберегающих технологий и точного земледелия, поддержка малых производителей через справедливую политику субсидирования – все эти многофакторные подходы открывают путь к устойчивым продовольственным системам будущего. В этом контексте линейные прогнозы, основанные на упрощенном понимании сельского хозяйства, выглядят не только наивными, но и вводящими в заблуждение, подталкивая общество к неверным решениям и упуская возможности для реальных позитивных изменений.
Поэтому, совершенно очевидно, что источник наших проблем — это не исчерпание ископаемого топлива (как любит подчеркивать автор), а несправедливая экономическая система, основанная на росте, долге и ссудном проценте. Именно эта система стимулирует монокультурное сельское хозяйство, ориентированное на максимизацию краткосрочной прибыли в ущерб долгосрочной устойчивости. Именно она создает искаженные стимулы, при которых выгоднее выращивать корма для скота или сырье для биотоплива, чем продовольствие для людей. Именно она формирует глобальные цепочки поставок, где большая часть стоимости оседает у посредников, а не у производителей.
Но это тема уже совершенно другой статьи…
Для тех, кто действительно хочет знать больше об энергии и продовольствии, вот эта фундаментальная статья будет хорошим стартом.